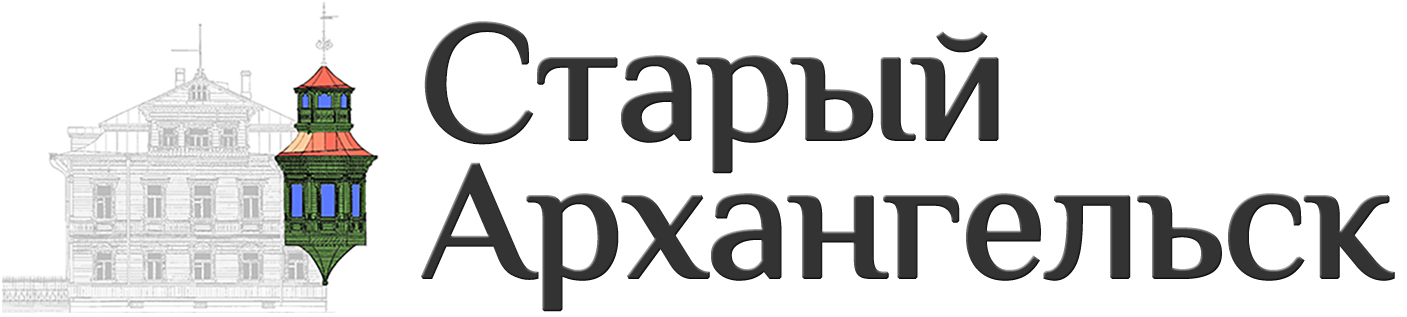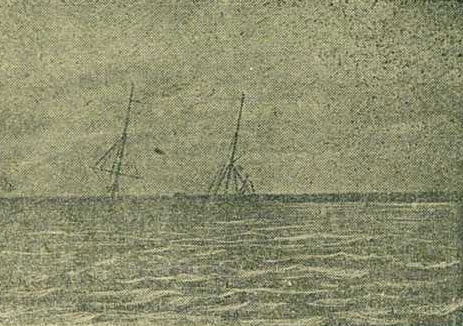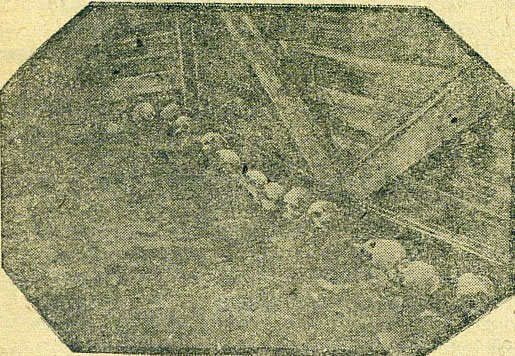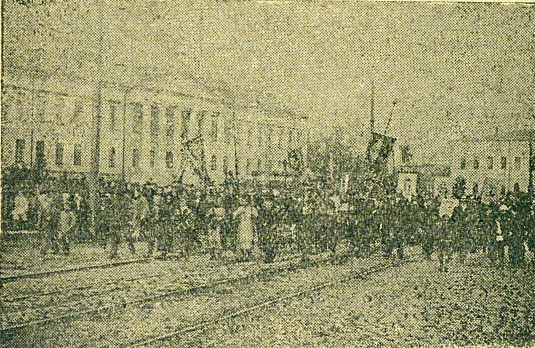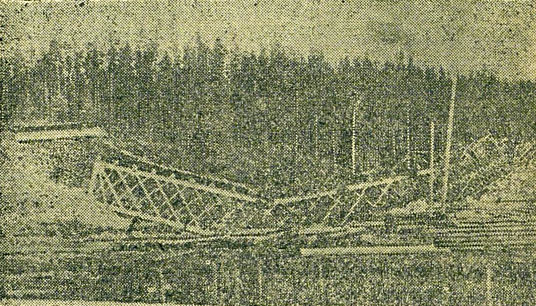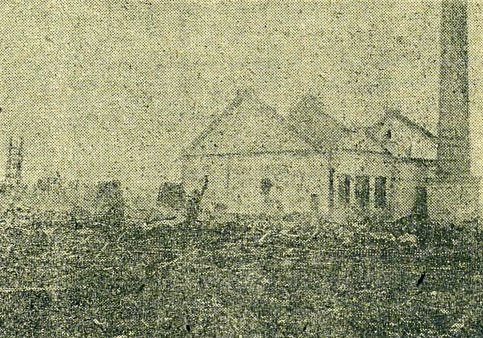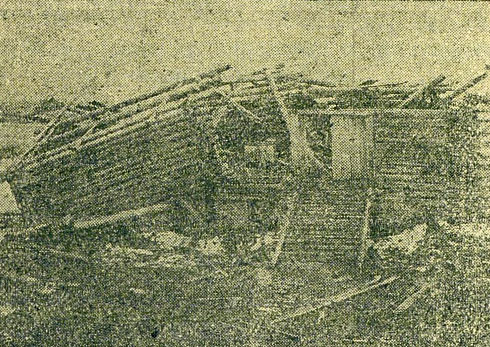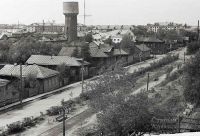В боях за Север
Памятник жертвам интервенции на полуострове Иоканьга (с картины художника Писахова)
История революционной борьбы на Севере в 1917 и последующие годы весьма своеобразна. Особенность ее прежде всего в том, что Октябрьский переворот здесь не произошел одновременно или сразу же вслед за восстанием в Ленинграде и Москве, а протекал и наростал в течение продолжительного времени.
Крайне медленным темпом шел здесь разгром органов власти буржуазии. Постепенно, по мере укрепления сил пролетариата, шло развитие революционной борьбы за создание советской власти.
Только в конце февраля 1918 г., т. е. уже после разгона учредительного собрания, организовался исполнительный комитет советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Архангельской губернии. В уездах организация советов проходила еще позднее: в марте—апреле 1918 г.
Основным вдохновителем контр-революционной работы на Севере был посольский корпус союзных держав, приютившийся в Вологде. Послы переехали в Вологду из Москвы тотчас после заключения Брестского мира, в конце февраля 1918 г.
Начиная с марта 1918 г. подпольная деятельность союзных посольств принимает весьма активный и широкий характер. Посольский корпус вступает в переговоры о вооруженном вмешательстве во внутренние дела России со всеми анти-советскими партиями, при чем вопрос этот обсуждался почти открыто.
По широко задуманному плану, ярославское восстание должно было идти в помощь архангельскому, чтобы отрезать Архангельск и Вологду в решительный момент от Москвы и не дать возможности центральному советскому правительству подать помощь на Север при занятии его белогвардейцами и союзниками.
Но не успел еще Нуланс сорганизовать прибытие в Архангельск экспедиционного корпуса союзников, в Архангельске еще продолжала существовать советская власть, а ярославские эсеры и меньшевики, поддержанные царскими офицерами, помещиками и буржуазией, горя нетерпением, решили 11 июля выступить.
Началом интервенции, в форме военных действий Антанты против Советского правительства, фактически надо считать события в Мурмане и Кеми в июне-июле 1918 года, хотя оффициальное начало открытой гражданской войны на Севере принято считать с 1 августа 1918 года, т. е. со дня падения Мудьюга и высадки англо-французами десанта для оккупации Архангельска.
16 июля в Архангельске стало уже известно, что отряды морской пехоты и карельского баталиона союзников оккупировали Соловецкий остров. Целый ряд данных указывал на то, что союзники ведут подготовку к оккупации Архангельска.
Захвату Архангельска предшествовала продолжительная подготовка контр революционных сил, как внутри России, так и вне ее.
Провал Ярославского восстания сорвал, как уже было сказано, готовившееся в июле выступление контр-революции в Архангельске.
В Архангельске на очередь дня стал вопрос о скорейшем приведении в боевую готовность всех военных сил.
14 июня наркоминотдел т. Чичерин телеграфирует председателю Архангельского губисполкома:
„Мы потребовали ухода английских, французских и американских судов из наших портов. Возможны враждебные действия англичан и их союзников, в связи с чехо-словацким движением. Надо быть готовыми к отпору".
Союзный отряд, под охраной крейсеров: „Адмирал Оба" (французский), „Олимпия" (американский) и „Антантив“ (английский), в ночь на 30-е июля двинулся на 17 судах в Белое море. Проводниками отряда были: председатель Мурманского краевого совета эсер Юрьев и бывший капитан Бутаков. Одновременно с этим выступил славяно-британский отряд, под командой английского полковника Торнхиля, занявший почти без боя гор. Онегу.
1 августа, рано утром, эскадра подошла к Мудьюгу. Остров Мудьюг находится недалеко от устья р. Северной Двины, с правой стороны при впадении реки в Белое море.
2 августа, на второй день после захвата Архангельска, сформировалось „Верховное управление Северной области", под председательством эсера Н. В. Чайковского.
С первых же дней эсеровское правительство начало рьяно проводить в жизнь политику буржуазии, направленную против рабочего класса. Первым актом правительства в этой области была отмена декрета о фабрично-заводском контроле.
Нигде и, пожалуй, ни в чем с таким обнаженным цинизмом не проявилось звериное лицо белогвардейщины и подлинная „цивилизация" интервентов, как в неописуемых издевательствах этих поборников „свободы и демократии" над всеми пленными ,и арестованными, попавшими в их многочисленные застенки.
В то время, когда в Красной армии решительно боролись с духом партизанщины, склонной к самосудам, и строго карали за проявления излишней грубости к пленным и арестованным, там наоборот строго карали солдат, конвоиров и прислугу застенков за человеческое обращение со всеми, попавшими в лапы белых.
Немало сделала и.пережила в тылу у белых та горсточка коммунистов, которая осталась в подпольи.
2 августа 1918 г., когда закончил свое существование большевистский орган—газета „Архангельская Правда“, от комитета партии ко всем членам РКП (б) было сделано такое обращение:
„Дорогие товарищи!
Мировая гидра контр-революции в лице английского империализма наносит архангельской организации тяжелый удар. Комитет партии вынужден итти в подполье, дабы не быть распятым мировыми разбойниками.
Бешеную агитацию против советов с самого начала революции вели на Севере попы. Они окончательно обнаглели под покровительством интервентов.
С первого же дня с приходом англичан в Архангельск началась дикая, ничем неприкрытая свистопляска церковников против ненавистной им советской власти и большевиков, а на ряду с этим— подобострастные похвалы союзникам.
Замыслы интервентов и северной белогвардейщины были велики. Главной их задачей было: продвинуться насколько возможно в глубь страны, к красным столицам, угрожать Москве и Ленинграду, установить непосредственную связь с чехословацкими войсками восточного фронта и тем замкнуть с севера и востока кольцо блокады.
Архангельск для осуществления этих планов должен был стать главной базой белых. От него должны были развертываться операции по железной дороге в направлении на Вологду, для дальнейших действий против Москвы, а по Северной Двине— по направлению на Котлас и Вятку, для соединения с Колчаком. Особенно опасна была для нас потеря Котласа, где сосредоточилась главная масса вывезенных боевых запасов Северного края. Захватив Котлас, противник немедленно предпринял бы операцию по овладению железной дорогой на Вятку. Одновременно, имея в распоряжении речной флот с его артиллерией, он мог бы воспользоваться вторым путем от Котласа на юг по Двине для захвата Великого Устюга, с целью обеспечить свой правый фланг и тыл от возможных наших действий вниз но Сухоне.
Для ведения операций во всех этих направлениях противник обладал гораздо большими силами, чем мы. В начале интервенции (июль-август 1918 г.) союзниками, в несколько приемов, было высажено в Мурманском крае 10.334 чел. и в Архангельске—13.182 чел. Все это, вместе с силами русских белогвардейцев и кулацкими партизанскими отрядами, составляло около 25 тыс. чел. Силы, которыми в это время располагало красное командование в Мурманском крае и на беломорском побережье были значительно слабее и не превышали 4000 чел., при чем наиболее значительный гарнизон их (Архангельский) не превышал 600 чел.
Устремив главное внимание на северо-двинское направление с целью овладеть Котласом, противник к 15-му августа 1918 года со всей своей речной флотилией и с прекрасно вооруженным отрядом в 600 чел. успел продвинуться вверх по С. Двине до впадения в нее р. Ваги, овладел устьем Ваги и задержался, наткнувшись на сопротивление небольшого отряда в 150 чел., под командой т. Павлина Виноградова, и красной речной флотилии из трех судов („Мурман", „Могучий" и „Любимец"), вооруженных 7 пушками и 5 пулеметами.
Противник, не успевший сразу же развернуть своих операций, дал нам возможность быстро усилить все направления, привести в боевую готовность все наши наскоро сколоченные отряды и красноармейские части и об‘единить их в особую 6-ю Северную армию под командой тов. Самойло и Реввоенсовета под председательством тов. Гиттис, в составе членов—т. т. Орехова, Кузьмина, Землячки и Уборевича, который в последствии был назначен командующим 18-й дивизии.
Настроения рабочих и крестьян как в тылу у белых, так и в рядах белогвардейской армии все больше и больше заострялись против интервентов и белогвардейщины.
В расположении белых войск начинают создаваться красные партизанские отряды, отдельные русские белогвардейские части начинают переходить к красным, производить восстания в армиях белых. На архангельских заводах растут брожения, недовольства, доходящие до забастовок.
Огромную роль в гражданской борьбе сыграли партизанские отряды.
Первый партизанский отряд на онежском и железно-дорожном фронте организовался в Онеге из большевиков, бежавших после занятия г. Онеги и Шелексовской. Отважные действия этого отряда имели в борьбе за Советский Север не малое значение.
После разгрома Германии и заключения с ней мира союзникам нельзя было под предлогом необходимости обороны против Германии держать войска в России для борьбы с советской властью. В белой армии все настойчивее требовали мира. За границу в рабочие массы стали просачиваться сведения о тех действительных событиях, которые развертывались в России.
Крупное влияние на рабочие массы Англии и Франции оказала также революция в Германии и Австрии. Рабочие массы Запада стали понимать истинные цели интервенции союзников в России. Симпатии рабочих Запада к пролетарскому советскому государству стали обнаруживаться все яснее и яснее.
Ущерб, нанесенный Северному краю интервенцией союзников, был чрезвычайно велик. По неполным подсчетам этот ущерб выражается в сумме около 650 мил. золотых рублей. Повидимому, действительные размеры ущерба превышают миллиард.
Вывезено масса разного рода товаров: льна, лесных материалов, смолы, пушнины и проч.
Много лесных материалов и лесопильных заводов уничтожено пожаром во время оккупации.
Многое уничтожено, разрушено и испорчено при отступлении.
На десятки миллионов рублей сожжено и разрушено жилых помещений и служебных построек, убито и угнано скота, расхищено имущества и пр.
С населения Севера за время оккупации собрано налогов на 215 миллионов рублей.